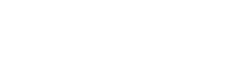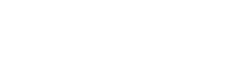Что говорят студенты?
С 19 июня 1999 года страны ЕС начали непрерывное движение к созданию единого Европейского пространства высшего образования.
В государствах-участницах в идеале оно должно стать качественным и ориентированным на рынок труда, а обучение – мобильным и демократичным. Все это и называется Болонским процессом.
На сегодняшний день в этом хорошем деле участвуют 47 стран. Есть среди них и наши ближайшие соседи – Россия, Украина, Казахстан.
Участие дает право студентам этих государств свободно обучаться за рубежом, а диплом, полученный, например, в России, в равной степени признается как в Чехии, так и во Франции.
Почему в процесс не включили Беларусь? Среди причин отказа:
низкий уровень университетской автономии, несоблюдение принципов академической свободы, отсутствие реального полезного студенческого управления, тотальный диктат государства.
Но что об этом знают студенты старейшего вуза страны? Первокурсники с факультета "Бизнеса и права" БГСХА после вопроса "что вы знаете о Болонском процессе и почему нас туда не взяли?" просили разрешения воспользоваться поиском ответа в Интернете. Будущий бухгалтер Борис смог лишь шутливо провести ассоциацию с собакой породы болонка. А молодой человек, с радостью согласившийся дать комментарий, услышал вопрос и быстро посеменил прочь.
Однако были и те, кто с Болонским процессом знаком.
Герман, 3 курс, экономический факультет
Все дипломы стран, которые входят в Болонский процесс, взаимно котируются. Беларусь в этом не принимает участие, а вот Россия, Украина, Казахстан – участвуют. Студенты из этих стран могут спокойно со своим дипломом ехать в Европу и там работать. У нас такой возможности нет. Если бы мы входили в Болонский процесс, это бы дало свободу передвижения не только мне, но и всем трудовым ресурсам.
Это возможность работать там, где хочешь.
Может, тебе нравится где-то климат, где-то культура – туда и едешь без проблем.
Елена, 3 курс, факультет бизнеса и права
Болонский процесс, насколько я знаю, подразумевает переход на четырехлетнюю систему обучения.
И лекции должны проходить в другом формате: студент будет самостоятельно к ним готовиться, а к преподавателю обращаться только по дополнительным вопросам.
Зародилось это в Европе, и Беларусь хотела примкнуть к европейским реформам, но нас не допустили, т.к. решили, что уровень образования не достаточно хорош.
Виктория, 4 курс, зооинженерный факультет
Будет платное образование, как за рубежом, как в Америке. Не так, как у нас: количество абитуриентов падает, вот и берут всех – порой даже на бюджет.
Почему нас не взяли в Болонский процесс? По политическим причинам, скорее всего. Наше образование ничем не хуже, чем российское.
Андрей, 1 курс, землеустроительный факультет
Болонский процесс – это заключение такого договора, который делает дипломы студентов из Беларуси действительными за рубежом. Не взяли нас, потому что не ценят: наши специалисты из-за плохого уровня образования не самые лучшие.
Надеюсь, что когда буду на 5 курсе, Беларусь все-таки станет участницей Болонского процесса.
А вот заведующий кафедрой механизации животноводства и электрификации сельского хозяйства Анатолий Семенович Добышев считает, что
"Беларусь обманывают кругом, только начнем где-то продвигаться, препятствия нам создают"
и призывает приучать работать подрастающее поколение еще со школьной скамьи.
Ректор БГСХА Александр Павлович Курдеко также отмечает, что в отказе Болонского секретариата были политические мотивы. При этом не отрицает, что проблем в сфере высшего образования у нас достаточно, но их возможное самостоятельное решение затрудняется контролем "сверху".
Слово ректора
- Александр Павлович, почему, на ваш взгляд, Беларусь не взяли в Болонский процесс?
- В этом, конечно, есть политические мотивы. Почему у нас на сегодня шенгенская виза стоит 60 евро?
Ни Украина, ни Россия столько за "шенген" не платят. Европейские страны открыто говорят: пусть люди почувствуют, что не того избрали. Я считаю, это неправильно.
Хотя мы пытаемся абстрагироваться от политики.
Наше высшее образование точно не хуже организовано, чем, опять же, в России и Украине. В чем-то наша подготовка специалистов даже лучше, чем, например, в Прибалтике. И подходы к образованию во многом совпадают с нашими восточно-европейскими соседями.
Есть и свои плюсы, в том, что нас не приняли.
Пока наше общество не в полной мере готово принять выпускников их двухступенчатой системы: бакалавриат – магистратура.
Мы сможем дальше перенимать передовое, что есть у них, и сохранять наши лучшие отечественные наработки. Их у нас за 173-летний период накоплено достаточно. Сможем также удержать интеллектуальный потенциал молодых людей.
Никто не собирается выстраивать занавес, запрещать молодежи уезжать – по-хорошему нужно удерживать, на взаимовыгодных условиях.
Потому что когда ты вкладываешь в будущего специалиста силы, деньги, хочется реальной отдачи здесь, в своей стране.
- Так неужели у нас в сфере высшего образования все так идеально, а проблемы выдуманы "злыми дядями" из Европы?
- Конечно, нет. Мы живем в реальных условиях и видим существующие недостатки даже больше, чем их видит наше руководство, больше, чем журналисты.
У нас проблем – целый воз, но как их решать? Мы пытаемся предлагать пути решения, но иногда натыкаемся на объективные и субъективные причины.
Объективно – некоторые мероприятия требуют дополнительных денег, некоторые – времени. А субъективно упираемся в жесткие программы и планы "сверху", в бюрократическую стену. В БГСХА мы пытаемся сокращать бумажную волокиту, но, живя в обществе, быть независимым от него невозможно.
- Среди основных причин отказа для Беларуси были названы следующие: отсутствие реального студенческого управления и тотальный диктат государства. Насколько в БГСХА возможен, как минимум, равноправный диалог между ректоратом и преподавателями с одной стороны и студентами – с другой?
- Мой кабинет открыт для студентов. Всегда говорю, если есть какие-то предложения, проблемы – приходите, будем рассматривать вместе и решать.
Студенты жаловались на недостаток практики в обучении, в связи с этим мы разработали новые учебные планы по большинству специальностей. Они имеют значительную практическую направленность. Ввели их на первом курсе, но результат от тех действий, что сделали сегодня, мы оценим только через 3 – 4 года, когда студенты закончат обучение.
Однако не все молодые люди готовы не то что к диалогу, но даже к обучению в вузе.
В советские времена в вузы поступало 15-20 % выпускников школ. Сейчас – до 80 %. Появился контингент студентов, которые в принципе не способны получать высшее образование.
Многие преподаватели жалуются: "Не могу я его научить, нет у него не то что способностей, даже желания учиться..." И такая доступность высшего образования – это общемировая тенденция. В связи с этим некоторое ужесточение требований к абитуриентам и сокращение их числа – реалии сегодняшнего дня.
Ждем 2015-ый год?
Болонский процесс открыт для новых стран-участниц: отечественное Министерство образования туда стремится, знающие студенты тоже хотят быть в Европейском пространстве.
Камнем преткновения очевидные для Европы требования: больше самоуправления в высшей школе. Но приемлемо ли это для чиновников из нашей системы образования?
В Беларуси претензии ЕС считают надуманными: наше образование ничуть не хуже европейского, осталось только окончательно привести его к общей системе "бакалавриат-магистр", и тогда в 2015 году на очередном саммите вопрос о присоединении нашей страны к Болонскому процессу будет рассмотрен положительно.
Отечественные эксперты из Общественного Болонского комитета, деятельность которого направлена на мониторинг реформ в сфере высшего образования, а также либерализацию высшей школы, с этим не согласны.
Только по-настоящему решительные меры, а не косметический ремонт, а также пересмотр подхода к управлению вузами приведут к позитивным результатам.
Это и позволит Беларуси стать полноправным участником общеевропейской интеграции в сфере образования.
Катя Карпицкая
horki.info

Что говорят студенты?
С 19 июня 1999 года страны ЕС начали непрерывное движение к созданию единого Европейского пространства высшего образования.
В государствах-участницах в идеале оно должно стать качественным и ориентированным на рынок труда, а обучение – мобильным и демократичным. Все это и называется Болонским процессом.
На сегодняшний день в этом хорошем деле участвуют 47 стран. Есть среди них и наши ближайшие соседи – Россия, Украина, Казахстан.
Участие дает право студентам этих государств свободно обучаться за рубежом, а диплом, полученный, например, в России, в равной степени признается как в Чехии, так и во Франции.
Почему в процесс не включили Беларусь? Среди причин отказа:
низкий уровень университетской автономии, несоблюдение принципов академической свободы, отсутствие реального полезного студенческого управления, тотальный диктат государства.
Но что об этом знают студенты старейшего вуза страны? Первокурсники с факультета "Бизнеса и права" БГСХА после вопроса "что вы знаете о Болонском процессе и почему нас туда не взяли?" просили разрешения воспользоваться поиском ответа в Интернете. Будущий бухгалтер Борис смог лишь шутливо провести ассоциацию с собакой породы болонка. А молодой человек, с радостью согласившийся дать комментарий, услышал вопрос и быстро посеменил прочь.
Однако были и те, кто с Болонским процессом знаком.
Герман, 3 курс, экономический факультет
Все дипломы стран, которые входят в Болонский процесс, взаимно котируются. Беларусь в этом не принимает участие, а вот Россия, Украина, Казахстан – участвуют. Студенты из этих стран могут спокойно со своим дипломом ехать в Европу и там работать. У нас такой возможности нет. Если бы мы входили в Болонский процесс, это бы дало свободу передвижения не только мне, но и всем трудовым ресурсам.
Это возможность работать там, где хочешь.
Может, тебе нравится где-то климат, где-то культура – туда и едешь без проблем.
Елена, 3 курс, факультет бизнеса и права
Болонский процесс, насколько я знаю, подразумевает переход на четырехлетнюю систему обучения.
И лекции должны проходить в другом формате: студент будет самостоятельно к ним готовиться, а к преподавателю обращаться только по дополнительным вопросам.
Зародилось это в Европе, и Беларусь хотела примкнуть к европейским реформам, но нас не допустили, т.к. решили, что уровень образования не достаточно хорош.
Виктория, 4 курс, зооинженерный факультет
Будет платное образование, как за рубежом, как в Америке. Не так, как у нас: количество абитуриентов падает, вот и берут всех – порой даже на бюджет.
Почему нас не взяли в Болонский процесс? По политическим причинам, скорее всего. Наше образование ничем не хуже, чем российское.
Андрей, 1 курс, землеустроительный факультет
Болонский процесс – это заключение такого договора, который делает дипломы студентов из Беларуси действительными за рубежом. Не взяли нас, потому что не ценят: наши специалисты из-за плохого уровня образования не самые лучшие.
Надеюсь, что когда буду на 5 курсе, Беларусь все-таки станет участницей Болонского процесса.
А вот заведующий кафедрой механизации животноводства и электрификации сельского хозяйства Анатолий Семенович Добышев считает, что
"Беларусь обманывают кругом, только начнем где-то продвигаться, препятствия нам создают"
и призывает приучать работать подрастающее поколение еще со школьной скамьи.
Ректор БГСХА Александр Павлович Курдеко также отмечает, что в отказе Болонского секретариата были политические мотивы. При этом не отрицает, что проблем в сфере высшего образования у нас достаточно, но их возможное самостоятельное решение затрудняется контролем "сверху".
Слово ректора
- Александр Павлович, почему, на ваш взгляд, Беларусь не взяли в Болонский процесс?
- В этом, конечно, есть политические мотивы. Почему у нас на сегодня шенгенская виза стоит 60 евро?
Ни Украина, ни Россия столько за "шенген" не платят. Европейские страны открыто говорят: пусть люди почувствуют, что не того избрали. Я считаю, это неправильно.
Хотя мы пытаемся абстрагироваться от политики.
Наше высшее образование точно не хуже организовано, чем, опять же, в России и Украине. В чем-то наша подготовка специалистов даже лучше, чем, например, в Прибалтике. И подходы к образованию во многом совпадают с нашими восточно-европейскими соседями.
Есть и свои плюсы, в том, что нас не приняли.
Пока наше общество не в полной мере готово принять выпускников их двухступенчатой системы: бакалавриат – магистратура.
Мы сможем дальше перенимать передовое, что есть у них, и сохранять наши лучшие отечественные наработки. Их у нас за 173-летний период накоплено достаточно. Сможем также удержать интеллектуальный потенциал молодых людей.
Никто не собирается выстраивать занавес, запрещать молодежи уезжать – по-хорошему нужно удерживать, на взаимовыгодных условиях.
Потому что когда ты вкладываешь в будущего специалиста силы, деньги, хочется реальной отдачи здесь, в своей стране.
- Так неужели у нас в сфере высшего образования все так идеально, а проблемы выдуманы "злыми дядями" из Европы?
- Конечно, нет. Мы живем в реальных условиях и видим существующие недостатки даже больше, чем их видит наше руководство, больше, чем журналисты.
У нас проблем – целый воз, но как их решать? Мы пытаемся предлагать пути решения, но иногда натыкаемся на объективные и субъективные причины.
Объективно – некоторые мероприятия требуют дополнительных денег, некоторые – времени. А субъективно упираемся в жесткие программы и планы "сверху", в бюрократическую стену. В БГСХА мы пытаемся сокращать бумажную волокиту, но, живя в обществе, быть независимым от него невозможно.
- Среди основных причин отказа для Беларуси были названы следующие: отсутствие реального студенческого управления и тотальный диктат государства. Насколько в БГСХА возможен, как минимум, равноправный диалог между ректоратом и преподавателями с одной стороны и студентами – с другой?
- Мой кабинет открыт для студентов. Всегда говорю, если есть какие-то предложения, проблемы – приходите, будем рассматривать вместе и решать.
Студенты жаловались на недостаток практики в обучении, в связи с этим мы разработали новые учебные планы по большинству специальностей. Они имеют значительную практическую направленность. Ввели их на первом курсе, но результат от тех действий, что сделали сегодня, мы оценим только через 3 – 4 года, когда студенты закончат обучение.
Однако не все молодые люди готовы не то что к диалогу, но даже к обучению в вузе.
В советские времена в вузы поступало 15-20 % выпускников школ. Сейчас – до 80 %. Появился контингент студентов, которые в принципе не способны получать высшее образование.
Многие преподаватели жалуются: "Не могу я его научить, нет у него не то что способностей, даже желания учиться..." И такая доступность высшего образования – это общемировая тенденция. В связи с этим некоторое ужесточение требований к абитуриентам и сокращение их числа – реалии сегодняшнего дня.
Ждем 2015-ый год?
Болонский процесс открыт для новых стран-участниц: отечественное Министерство образования туда стремится, знающие студенты тоже хотят быть в Европейском пространстве.
Камнем преткновения очевидные для Европы требования: больше самоуправления в высшей школе. Но приемлемо ли это для чиновников из нашей системы образования?
В Беларуси претензии ЕС считают надуманными: наше образование ничуть не хуже европейского, осталось только окончательно привести его к общей системе "бакалавриат-магистр", и тогда в 2015 году на очередном саммите вопрос о присоединении нашей страны к Болонскому процессу будет рассмотрен положительно.
Отечественные эксперты из Общественного Болонского комитета, деятельность которого направлена на мониторинг реформ в сфере высшего образования, а также либерализацию высшей школы, с этим не согласны.
Только по-настоящему решительные меры, а не косметический ремонт, а также пересмотр подхода к управлению вузами приведут к позитивным результатам.
Это и позволит Беларуси стать полноправным участником общеевропейской интеграции в сфере образования.
Катя Карпицкая
horki.info

Sorry, this article is only available in
Russian.

 Что говорят студенты?
С 19 июня 1999 года страны ЕС начали непрерывное движение к созданию единого Европейского пространства высшего образования.
В государствах-участницах в идеале оно должно стать качественным и ориентированным на рынок труда, а обучение – мобильным и демократичным. Все это и называется Болонским процессом.
На сегодняшний день в этом хорошем деле участвуют 47 стран. Есть среди них и наши ближайшие соседи – Россия, Украина, Казахстан.
Участие дает право студентам этих государств свободно обучаться за рубежом, а диплом, полученный, например, в России, в равной степени признается как в Чехии, так и во Франции.
Почему в процесс не включили Беларусь? Среди причин отказа:
низкий уровень университетской автономии, несоблюдение принципов академической свободы, отсутствие реального полезного студенческого управления, тотальный диктат государства.
Но что об этом знают студенты старейшего вуза страны? Первокурсники с факультета "Бизнеса и права" БГСХА после вопроса "что вы знаете о Болонском процессе и почему нас туда не взяли?" просили разрешения воспользоваться поиском ответа в Интернете. Будущий бухгалтер Борис смог лишь шутливо провести ассоциацию с собакой породы болонка. А молодой человек, с радостью согласившийся дать комментарий, услышал вопрос и быстро посеменил прочь.
Однако были и те, кто с Болонским процессом знаком.
Герман, 3 курс, экономический факультет
Все дипломы стран, которые входят в Болонский процесс, взаимно котируются. Беларусь в этом не принимает участие, а вот Россия, Украина, Казахстан – участвуют. Студенты из этих стран могут спокойно со своим дипломом ехать в Европу и там работать. У нас такой возможности нет. Если бы мы входили в Болонский процесс, это бы дало свободу передвижения не только мне, но и всем трудовым ресурсам.
Это возможность работать там, где хочешь.
Может, тебе нравится где-то климат, где-то культура – туда и едешь без проблем.
Елена, 3 курс, факультет бизнеса и права
Болонский процесс, насколько я знаю, подразумевает переход на четырехлетнюю систему обучения.
И лекции должны проходить в другом формате: студент будет самостоятельно к ним готовиться, а к преподавателю обращаться только по дополнительным вопросам.
Зародилось это в Европе, и Беларусь хотела примкнуть к европейским реформам, но нас не допустили, т.к. решили, что уровень образования не достаточно хорош.
Виктория, 4 курс, зооинженерный факультет
Будет платное образование, как за рубежом, как в Америке. Не так, как у нас: количество абитуриентов падает, вот и берут всех – порой даже на бюджет.
Почему нас не взяли в Болонский процесс? По политическим причинам, скорее всего. Наше образование ничем не хуже, чем российское.
Андрей, 1 курс, землеустроительный факультет
Болонский процесс – это заключение такого договора, который делает дипломы студентов из Беларуси действительными за рубежом. Не взяли нас, потому что не ценят: наши специалисты из-за плохого уровня образования не самые лучшие.
Надеюсь, что когда буду на 5 курсе, Беларусь все-таки станет участницей Болонского процесса.
А вот заведующий кафедрой механизации животноводства и электрификации сельского хозяйства Анатолий Семенович Добышев считает, что
"Беларусь обманывают кругом, только начнем где-то продвигаться, препятствия нам создают"
и призывает приучать работать подрастающее поколение еще со школьной скамьи.
Ректор БГСХА Александр Павлович Курдеко также отмечает, что в отказе Болонского секретариата были политические мотивы. При этом не отрицает, что проблем в сфере высшего образования у нас достаточно, но их возможное самостоятельное решение затрудняется контролем "сверху".
Слово ректора
- Александр Павлович, почему, на ваш взгляд, Беларусь не взяли в Болонский процесс?
- В этом, конечно, есть политические мотивы. Почему у нас на сегодня шенгенская виза стоит 60 евро?
Ни Украина, ни Россия столько за "шенген" не платят. Европейские страны открыто говорят: пусть люди почувствуют, что не того избрали. Я считаю, это неправильно.
Хотя мы пытаемся абстрагироваться от политики.
Наше высшее образование точно не хуже организовано, чем, опять же, в России и Украине. В чем-то наша подготовка специалистов даже лучше, чем, например, в Прибалтике. И подходы к образованию во многом совпадают с нашими восточно-европейскими соседями.
Есть и свои плюсы, в том, что нас не приняли.
Пока наше общество не в полной мере готово принять выпускников их двухступенчатой системы: бакалавриат – магистратура.
Мы сможем дальше перенимать передовое, что есть у них, и сохранять наши лучшие отечественные наработки. Их у нас за 173-летний период накоплено достаточно. Сможем также удержать интеллектуальный потенциал молодых людей.
Никто не собирается выстраивать занавес, запрещать молодежи уезжать – по-хорошему нужно удерживать, на взаимовыгодных условиях.
Потому что когда ты вкладываешь в будущего специалиста силы, деньги, хочется реальной отдачи здесь, в своей стране.
- Так неужели у нас в сфере высшего образования все так идеально, а проблемы выдуманы "злыми дядями" из Европы?
- Конечно, нет. Мы живем в реальных условиях и видим существующие недостатки даже больше, чем их видит наше руководство, больше, чем журналисты.
У нас проблем – целый воз, но как их решать? Мы пытаемся предлагать пути решения, но иногда натыкаемся на объективные и субъективные причины.
Объективно – некоторые мероприятия требуют дополнительных денег, некоторые – времени. А субъективно упираемся в жесткие программы и планы "сверху", в бюрократическую стену. В БГСХА мы пытаемся сокращать бумажную волокиту, но, живя в обществе, быть независимым от него невозможно.
- Среди основных причин отказа для Беларуси были названы следующие: отсутствие реального студенческого управления и тотальный диктат государства. Насколько в БГСХА возможен, как минимум, равноправный диалог между ректоратом и преподавателями с одной стороны и студентами – с другой?
- Мой кабинет открыт для студентов. Всегда говорю, если есть какие-то предложения, проблемы – приходите, будем рассматривать вместе и решать.
Студенты жаловались на недостаток практики в обучении, в связи с этим мы разработали новые учебные планы по большинству специальностей. Они имеют значительную практическую направленность. Ввели их на первом курсе, но результат от тех действий, что сделали сегодня, мы оценим только через 3 – 4 года, когда студенты закончат обучение.
Однако не все молодые люди готовы не то что к диалогу, но даже к обучению в вузе.
В советские времена в вузы поступало 15-20 % выпускников школ. Сейчас – до 80 %. Появился контингент студентов, которые в принципе не способны получать высшее образование.
Многие преподаватели жалуются: "Не могу я его научить, нет у него не то что способностей, даже желания учиться..." И такая доступность высшего образования – это общемировая тенденция. В связи с этим некоторое ужесточение требований к абитуриентам и сокращение их числа – реалии сегодняшнего дня.
Ждем 2015-ый год?
Болонский процесс открыт для новых стран-участниц: отечественное Министерство образования туда стремится, знающие студенты тоже хотят быть в Европейском пространстве.
Камнем преткновения очевидные для Европы требования: больше самоуправления в высшей школе. Но приемлемо ли это для чиновников из нашей системы образования?
В Беларуси претензии ЕС считают надуманными: наше образование ничуть не хуже европейского, осталось только окончательно привести его к общей системе "бакалавриат-магистр", и тогда в 2015 году на очередном саммите вопрос о присоединении нашей страны к Болонскому процессу будет рассмотрен положительно.
Отечественные эксперты из Общественного Болонского комитета, деятельность которого направлена на мониторинг реформ в сфере высшего образования, а также либерализацию высшей школы, с этим не согласны.
Только по-настоящему решительные меры, а не косметический ремонт, а также пересмотр подхода к управлению вузами приведут к позитивным результатам.
Это и позволит Беларуси стать полноправным участником общеевропейской интеграции в сфере образования.
Катя Карпицкая
horki.info
Что говорят студенты?
С 19 июня 1999 года страны ЕС начали непрерывное движение к созданию единого Европейского пространства высшего образования.
В государствах-участницах в идеале оно должно стать качественным и ориентированным на рынок труда, а обучение – мобильным и демократичным. Все это и называется Болонским процессом.
На сегодняшний день в этом хорошем деле участвуют 47 стран. Есть среди них и наши ближайшие соседи – Россия, Украина, Казахстан.
Участие дает право студентам этих государств свободно обучаться за рубежом, а диплом, полученный, например, в России, в равной степени признается как в Чехии, так и во Франции.
Почему в процесс не включили Беларусь? Среди причин отказа:
низкий уровень университетской автономии, несоблюдение принципов академической свободы, отсутствие реального полезного студенческого управления, тотальный диктат государства.
Но что об этом знают студенты старейшего вуза страны? Первокурсники с факультета "Бизнеса и права" БГСХА после вопроса "что вы знаете о Болонском процессе и почему нас туда не взяли?" просили разрешения воспользоваться поиском ответа в Интернете. Будущий бухгалтер Борис смог лишь шутливо провести ассоциацию с собакой породы болонка. А молодой человек, с радостью согласившийся дать комментарий, услышал вопрос и быстро посеменил прочь.
Однако были и те, кто с Болонским процессом знаком.
Герман, 3 курс, экономический факультет
Все дипломы стран, которые входят в Болонский процесс, взаимно котируются. Беларусь в этом не принимает участие, а вот Россия, Украина, Казахстан – участвуют. Студенты из этих стран могут спокойно со своим дипломом ехать в Европу и там работать. У нас такой возможности нет. Если бы мы входили в Болонский процесс, это бы дало свободу передвижения не только мне, но и всем трудовым ресурсам.
Это возможность работать там, где хочешь.
Может, тебе нравится где-то климат, где-то культура – туда и едешь без проблем.
Елена, 3 курс, факультет бизнеса и права
Болонский процесс, насколько я знаю, подразумевает переход на четырехлетнюю систему обучения.
И лекции должны проходить в другом формате: студент будет самостоятельно к ним готовиться, а к преподавателю обращаться только по дополнительным вопросам.
Зародилось это в Европе, и Беларусь хотела примкнуть к европейским реформам, но нас не допустили, т.к. решили, что уровень образования не достаточно хорош.
Виктория, 4 курс, зооинженерный факультет
Будет платное образование, как за рубежом, как в Америке. Не так, как у нас: количество абитуриентов падает, вот и берут всех – порой даже на бюджет.
Почему нас не взяли в Болонский процесс? По политическим причинам, скорее всего. Наше образование ничем не хуже, чем российское.
Андрей, 1 курс, землеустроительный факультет
Болонский процесс – это заключение такого договора, который делает дипломы студентов из Беларуси действительными за рубежом. Не взяли нас, потому что не ценят: наши специалисты из-за плохого уровня образования не самые лучшие.
Надеюсь, что когда буду на 5 курсе, Беларусь все-таки станет участницей Болонского процесса.
А вот заведующий кафедрой механизации животноводства и электрификации сельского хозяйства Анатолий Семенович Добышев считает, что
"Беларусь обманывают кругом, только начнем где-то продвигаться, препятствия нам создают"
и призывает приучать работать подрастающее поколение еще со школьной скамьи.
Ректор БГСХА Александр Павлович Курдеко также отмечает, что в отказе Болонского секретариата были политические мотивы. При этом не отрицает, что проблем в сфере высшего образования у нас достаточно, но их возможное самостоятельное решение затрудняется контролем "сверху".
Слово ректора
- Александр Павлович, почему, на ваш взгляд, Беларусь не взяли в Болонский процесс?
- В этом, конечно, есть политические мотивы. Почему у нас на сегодня шенгенская виза стоит 60 евро?
Ни Украина, ни Россия столько за "шенген" не платят. Европейские страны открыто говорят: пусть люди почувствуют, что не того избрали. Я считаю, это неправильно.
Хотя мы пытаемся абстрагироваться от политики.
Наше высшее образование точно не хуже организовано, чем, опять же, в России и Украине. В чем-то наша подготовка специалистов даже лучше, чем, например, в Прибалтике. И подходы к образованию во многом совпадают с нашими восточно-европейскими соседями.
Есть и свои плюсы, в том, что нас не приняли.
Пока наше общество не в полной мере готово принять выпускников их двухступенчатой системы: бакалавриат – магистратура.
Мы сможем дальше перенимать передовое, что есть у них, и сохранять наши лучшие отечественные наработки. Их у нас за 173-летний период накоплено достаточно. Сможем также удержать интеллектуальный потенциал молодых людей.
Никто не собирается выстраивать занавес, запрещать молодежи уезжать – по-хорошему нужно удерживать, на взаимовыгодных условиях.
Потому что когда ты вкладываешь в будущего специалиста силы, деньги, хочется реальной отдачи здесь, в своей стране.
- Так неужели у нас в сфере высшего образования все так идеально, а проблемы выдуманы "злыми дядями" из Европы?
- Конечно, нет. Мы живем в реальных условиях и видим существующие недостатки даже больше, чем их видит наше руководство, больше, чем журналисты.
У нас проблем – целый воз, но как их решать? Мы пытаемся предлагать пути решения, но иногда натыкаемся на объективные и субъективные причины.
Объективно – некоторые мероприятия требуют дополнительных денег, некоторые – времени. А субъективно упираемся в жесткие программы и планы "сверху", в бюрократическую стену. В БГСХА мы пытаемся сокращать бумажную волокиту, но, живя в обществе, быть независимым от него невозможно.
- Среди основных причин отказа для Беларуси были названы следующие: отсутствие реального студенческого управления и тотальный диктат государства. Насколько в БГСХА возможен, как минимум, равноправный диалог между ректоратом и преподавателями с одной стороны и студентами – с другой?
- Мой кабинет открыт для студентов. Всегда говорю, если есть какие-то предложения, проблемы – приходите, будем рассматривать вместе и решать.
Студенты жаловались на недостаток практики в обучении, в связи с этим мы разработали новые учебные планы по большинству специальностей. Они имеют значительную практическую направленность. Ввели их на первом курсе, но результат от тех действий, что сделали сегодня, мы оценим только через 3 – 4 года, когда студенты закончат обучение.
Однако не все молодые люди готовы не то что к диалогу, но даже к обучению в вузе.
В советские времена в вузы поступало 15-20 % выпускников школ. Сейчас – до 80 %. Появился контингент студентов, которые в принципе не способны получать высшее образование.
Многие преподаватели жалуются: "Не могу я его научить, нет у него не то что способностей, даже желания учиться..." И такая доступность высшего образования – это общемировая тенденция. В связи с этим некоторое ужесточение требований к абитуриентам и сокращение их числа – реалии сегодняшнего дня.
Ждем 2015-ый год?
Болонский процесс открыт для новых стран-участниц: отечественное Министерство образования туда стремится, знающие студенты тоже хотят быть в Европейском пространстве.
Камнем преткновения очевидные для Европы требования: больше самоуправления в высшей школе. Но приемлемо ли это для чиновников из нашей системы образования?
В Беларуси претензии ЕС считают надуманными: наше образование ничуть не хуже европейского, осталось только окончательно привести его к общей системе "бакалавриат-магистр", и тогда в 2015 году на очередном саммите вопрос о присоединении нашей страны к Болонскому процессу будет рассмотрен положительно.
Отечественные эксперты из Общественного Болонского комитета, деятельность которого направлена на мониторинг реформ в сфере высшего образования, а также либерализацию высшей школы, с этим не согласны.
Только по-настоящему решительные меры, а не косметический ремонт, а также пересмотр подхода к управлению вузами приведут к позитивным результатам.
Это и позволит Беларуси стать полноправным участником общеевропейской интеграции в сфере образования.
Катя Карпицкая
horki.info
 Sorry, this article is only available in Russian.
Sorry, this article is only available in Russian.